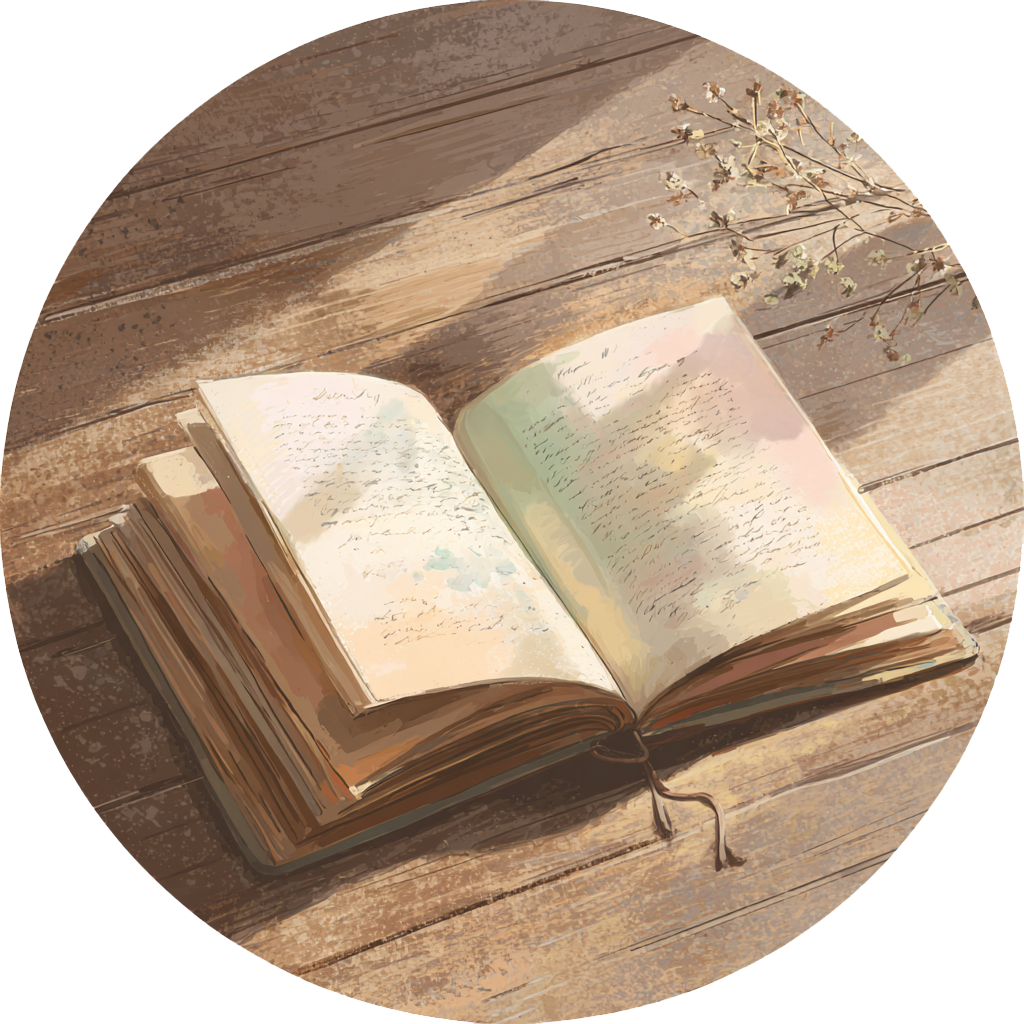Я проснулся в полпятого, ещё в темноте. На кухне тянуло холодом от окна, за стеклом висела ровная предрассветная тьма. Рюкзак, собранный с вечера, стоял у двери, как безмолвное «поехали». Я заново разложил вещи — не из недоверия к себе, а чтобы увидеть маршрут глазами вещей. Карта и распечатанный трек — в клапане. Компас — в кармане куртки, чтобы не лезть в рюкзак на ветру. Термос с чаем — сверху, рядом фляга с водой. Складной нож в чехле к лямке — так быстрее достать. Двадцатиметровый репшнур змейкой уложен в боковой карман; свободный конец привязан контрольным узлом к петле лямки, чтобы не потерять. Записная книжка — та самая, где даты, координаты и короткие заметки, — в наружном кармане. Всё было на своих местах, как на схеме.
Цель дня была не абстрактной «погулять по лесу». Мне нужно было выйти на открытое плато у старой триангуляционной вышки на Лысой Круче: отметить координаты, дорисовать в дневнике панораму и замкнуть незавершённый прошлогодний маршрут. Тогда мы с Серафимой дошли только до половины — вернулись из-за грозы. «Ты всегда идёшь вперёд, даже когда не знаешь, зачем», — сказала она на обратной дороге. Тогда я усмехнулся. Сегодня эти слова звенели как цель: дойти и понять, зачем.
Автобус до лесничества отходил в 5:40, и к шести он выгрузил меня у шлагбаума. Тропа начиналась сразу за квартальным столбом: сначала по мягкой подушке хвои, потом вела вдоль ручья, набирая высоту по левому борту долины. Я сделал первую отметку в книжке: «06:10. Старт. Погода пасмурная, без ветра». Лес ещё спал — редкие птицы переговаривались где-то высоко. Сухие ветки под ногами хрустели, напоминая, что каждое движение отдаётся в плечах от лямок рюкзака.
Первые два километра давались легко. Потом пошли привычные мелочи, из которых вырастает усталость: ремень чехла ножа натирал бедро — подтянул, переложил. Фляга стучала о термос — прокинул поперечную стяжку. Всё это занимало секунды, но каждая такая мелочь тратит силы, если не пресечь. Я ускорился, будто убегая от мыслей, и рюкзак быстро напомнил о себе тяжестью. Внутри зашевелилось беспокойство: а хватит ли сил на весь подъём? Серафима в памяти будто улыбнулась: «Ты идёшь вперёд…» Я ответил ей молча: «Сегодня — не любой ценой».
После дождливой ночи земля была рыхлой. Там, где тропа выходила на солнечную полосу, запах нагретой хвои становился плотнее. Я делал короткие остановки, записывал ориентиры — поворот тропы на северо-восток, мостик через мелкий ручей. В книжке строки ложились как крошечные якоря: «07:10. Мостик, левый берег, настил скользкий». От этих записей было спокойнее: пока есть след, есть и дорога назад.
К половине восьмого тропа взяла правее и пошла траверсом по крутому склону. Снизу шумел тот же ручей, но глубже, в узкой каменистой промоине. Здесь буря этой весной переломала сосны, и завал оказался не просто «перешагнуть и дальше». Поваленные стволы лежали каскадом, переплетаясь сучьями; земля под ними с полметра просела — видимо, корни вывернуло вместе с пластом грунта, и часть тропы просто исчезла. Выше — ровная глина с примесью мелкой осыпи, подмытая водой; шагнуть — и поедешь вниз к ручью. Ни обойти прямо сверху, ни пролезть под стволами без риска соскользнуть. Здесь верёвка перестала быть «на всякий случай» и стала инструментом.
Я сбросил рюкзак на сухой кочке, осмотрел склон. Чуть выше завала торчал толстый пень — корни держались в глине как крюк. Чуть дальше, на продолжении тропы, стояла живая сосна с грубой корой. План сложился простой: повесить перила — сделать себе поручень на десять–пятнадцать метров, чтобы обойти опасное место по верхнему, более плотному краю. Я закрепил один конец репшнура схваткой вокруг пня, обложил узел камнем, чтобы не сползал, натянул верёвку к той сосне, проверил — выдержит ли рывок. Пару раз поиграл весом — скрипнула кора, но всё устояло.
Перешёл налегке: сначала без рюкзака, пробуя грунт носком, потом вернулся, надел рюкзак и снова пошёл, удерживая равновесие на скользкой полке. Верёвка резала ладони сквозь тонкие перчатки, но давала ровно то, что нужно: контроль. Под ногой один раз поехал мокрый ком, я завис на верёвке и перенёс вес на верхнюю ногу, выждал, пока земля «сядет», и только тогда сделал шаг. На чистом месте отдышался и записал: «08:05. Завал. Траверс по крутому склону. Повесил перила между пнём и сосной — обошёл сверху.» — и сверху аккуратные цифры с координатами. Не геройство — просто последовательность.
Дальше тропа снова спрямилась и пошла через черничник. Боль напомнила о себе внезапно — старое растяжение в правой лодыжке, которое я заработал три года назад на каменной россыпи. Ничего острого, но тянущее и упрямое. Я остановился, сел на пень, разулся, размял ступню, сделал круговую эластичную бинтовку из широкой ленты, которую всегда ношу в аптечке. Подумал, не бросить ли сегодня — спуститься той же дорогой. Потом посмотрел в книжку: «07:10. Мостик. 08:05. Завал…» Этот ряд пунктов — как нитка, по которой уже вышит узор. Я не обязан гнаться за километрами, но могу идти своим темпом. Нашёл сухой прямой сук, обрезал веточки ножом — вышла опора. С тростью нога перестала капризничать.
Около девяти тропа вывела на знакомую полянку. На коре сосны — старая метка, неглубокий заруб, который мы с Серафимой оставили прошлой осенью. Смола разлилась поверх, чуть присыпанная пылью, край метки опушился мхом. Я постоял напротив, как напротив фотографии, где ты ещё в другом времени и с другим выражением лица. Тогда казалось, что «всё впереди», стоит только идти. Теперь понял: «вперёд» — не прямая, и не любая цена оправдана тем, что шаг сделан. Записал: «09:10. Метка прошлого года. Всё иначе. Иду, но не забиваю себя километрами».
Небо тем временем стянуло облаками. На ветру запахло сыростью не из леса, а с высоты — так пахнет открытая трава на гребне. Это радовало: значит, до Лысой Кручи — не больше двух часов. Дождь пошёл мелкий, ленивый, но упорный. Я накинул пончо, спрятал блокнот под куртку. Идти под дождём — занятие медитативное: слышишь только шаги и ровный стук капель по козырьку. Когда вода дошла до носков, я остановился у старого кострища — круг камней, сухой участок под лапником. Здесь не было ни следов свежей травы, ни мусора — место «рабочее». Развёл небольшой огонь из сухих веток, что нашёл под елями, — не для тепла, а чтобы переждать и выровнять дыхание. Дым висел полосами, не рвался — значит, сильного ветра не будет. Сделал глоток чая. Написал: «10:05. Небольшой дождь. Костище под елями. Иду дальше после передышки».
К одиннадцати лес начал редеть. Стволы расставались шире, трава становилась ниже, и в просветах между соснами вверх всплывали серые плиты камня. С каждым шагом становилось тише — не потому что звуков меньше, а потому что они менялись: вместо потрескивающих веток — шорох редкой травы, вместо птичьих криков — протяжный свист ветра. Я вышел на край плато неожиданно — как будто отодвинули занавес. Внизу, слева, лес ещё шумел, справа открывалась голая спина холма, исчерченная неглубокими трещинами. На самом гребне торчал бетонный столб — остаток триангуляционной привязки, ржавая железка рядом выглядела как корявая подпись геодезистов.
И вот здесь я остановился не потому, что «так надо по плану», а потому, что дальше идти не хотелось. Не как сдача — как завершение фразы точкой, а не восклицательным знаком. Я положил на плащ компас и кружку, дал себе минуту просто стоять. Дождь почти сошёл на нет; из-под облаков вывернулась белая полоска света, и мокрый камень заблестел. Я достал нож — привычное движение: проверить, не заржавел ли. Держал его на ладони и чувствовал реальный вес, не символический. Под подошвой хрустнула сухая веточка — одна из тех, что ветер вытянул на край, а может принёс кто до меня.
Я раскрыл книжку и, опершись коленом на рюкзак, вписал: «11:40. Лысая Круча. Столб. Вид на долину. Цель достигнута». И ниже, не как отчёт, а как ответ Серафиме: «Дошёл не за галочкой. Дошёл, чтобы научиться останавливаться. Дальше есть, но не сегодня». Я отметил азимуты на основные ориентиры — просеку внизу, лесничество на северо-западе, изгиб реки. Снял координаты столба, пририсовал в блокноте схему гребня — та самая панорама, которой не хватало прошлой осенью.
Обратная дорога шла легче — не потому, что спуск, а потому, что внутри исчезла суета. На завале я снова натянул перила — теперь уверенно и аккуратно, забрал верёвку, свернул, убрал в карман рюкзака. Нога отдавала тупой усталостью, но без прежней злобы. У мостика сделал последнюю отметку: «13:05. Возвращаюсь. Дождь кончился». Солнце так и не вышло — и это устраивало.
К шлагбауму я подошёл около трёх. Лес отступил не победой, а ровным, нормальным завершением разговора, в котором обе стороны услышали друг друга. Я не стал лихорадочно думать, «что теперь», не стал искать новую цель, чтобы заткнуть тишину. Аккуратно уложил компас, кружку, вынул нож, проверил клинок, послушал, как в кронах трещит сухая ветка, и только тогда закрыл блокнот. На последней строке написал: «Здесь и сейчас. Я — часть этого. Цель достигнута, и она шире точки на карте».
Когда автобус тронулся, я ещё чувствовал ладонями шероховатость верёвки и тяжесть ножа — реальные, не придуманные. Всё, что осталось позади, не исчезло и не обнулилось: оно легло слоями — дорожной пылью на ботинках, смолой на старой метке, строчками в записной книжке. Я вез с собой не километры и не рекорды, а новое умение — идти вперёд, понимая, куда и зачем, и останавливаться, когда необходимо