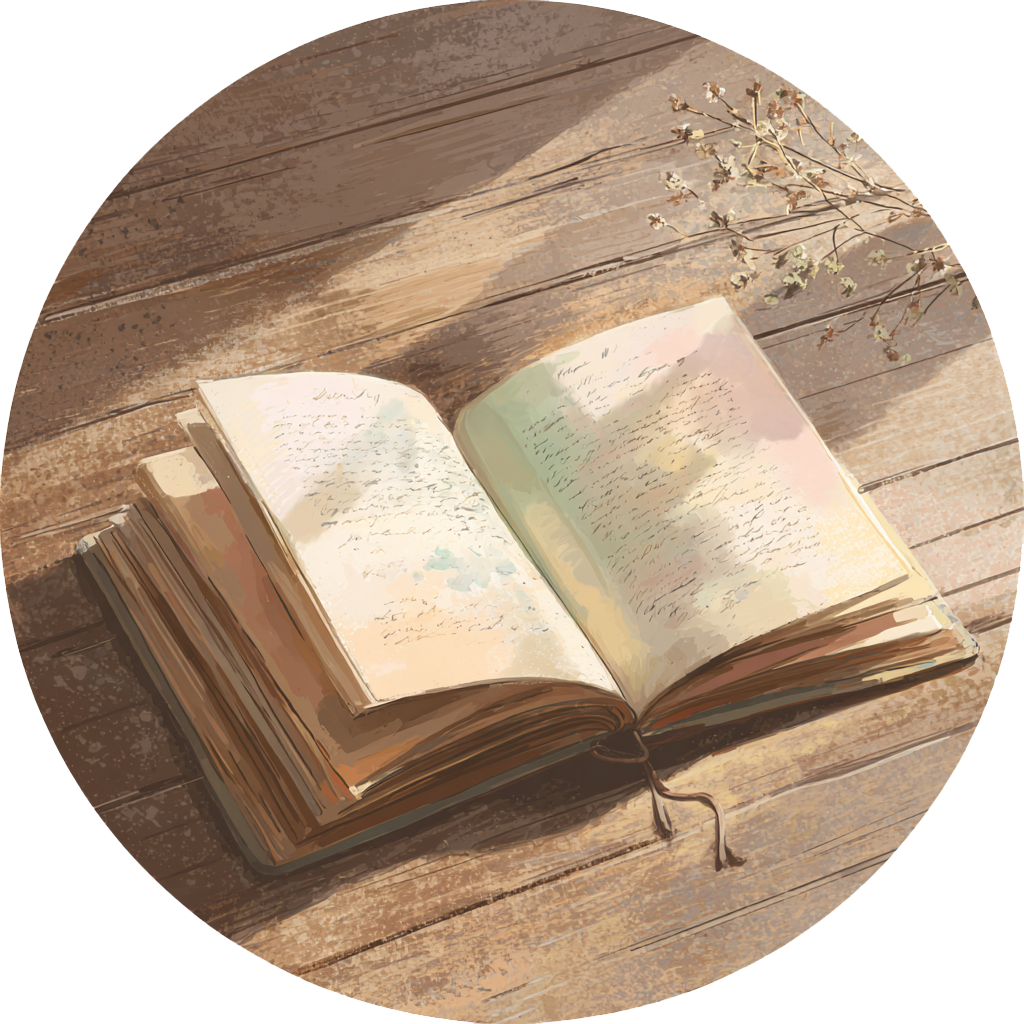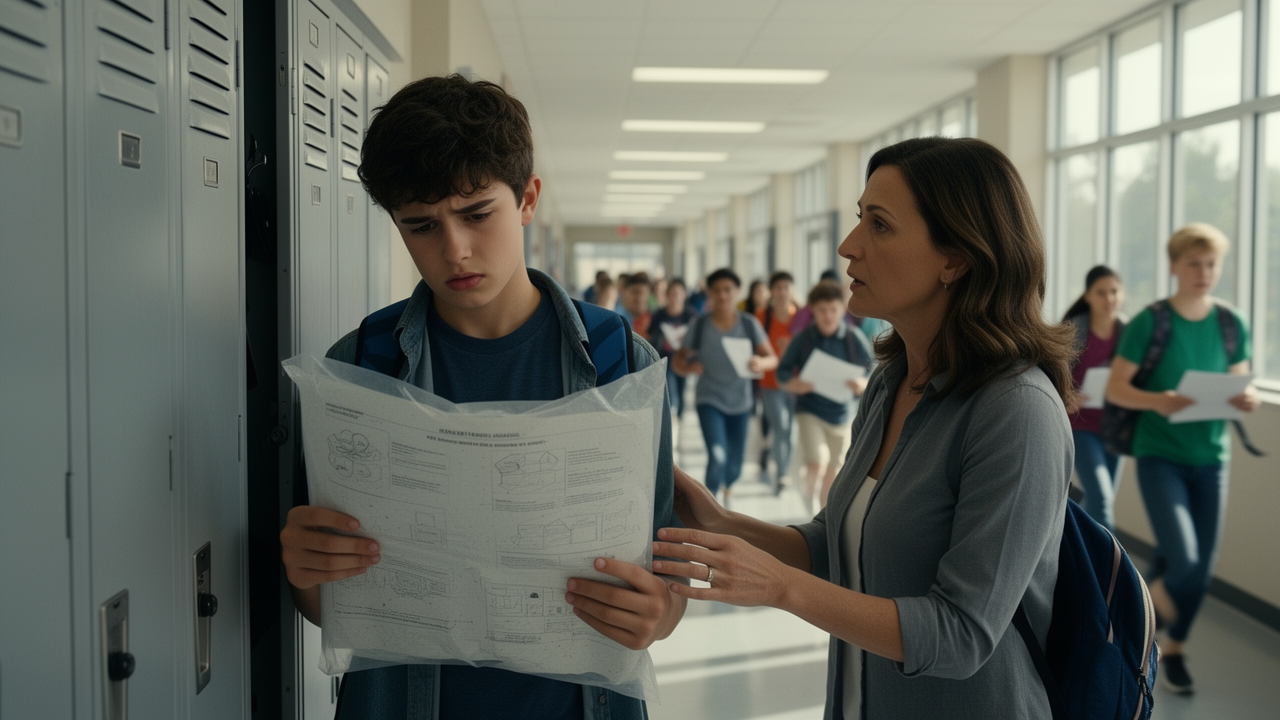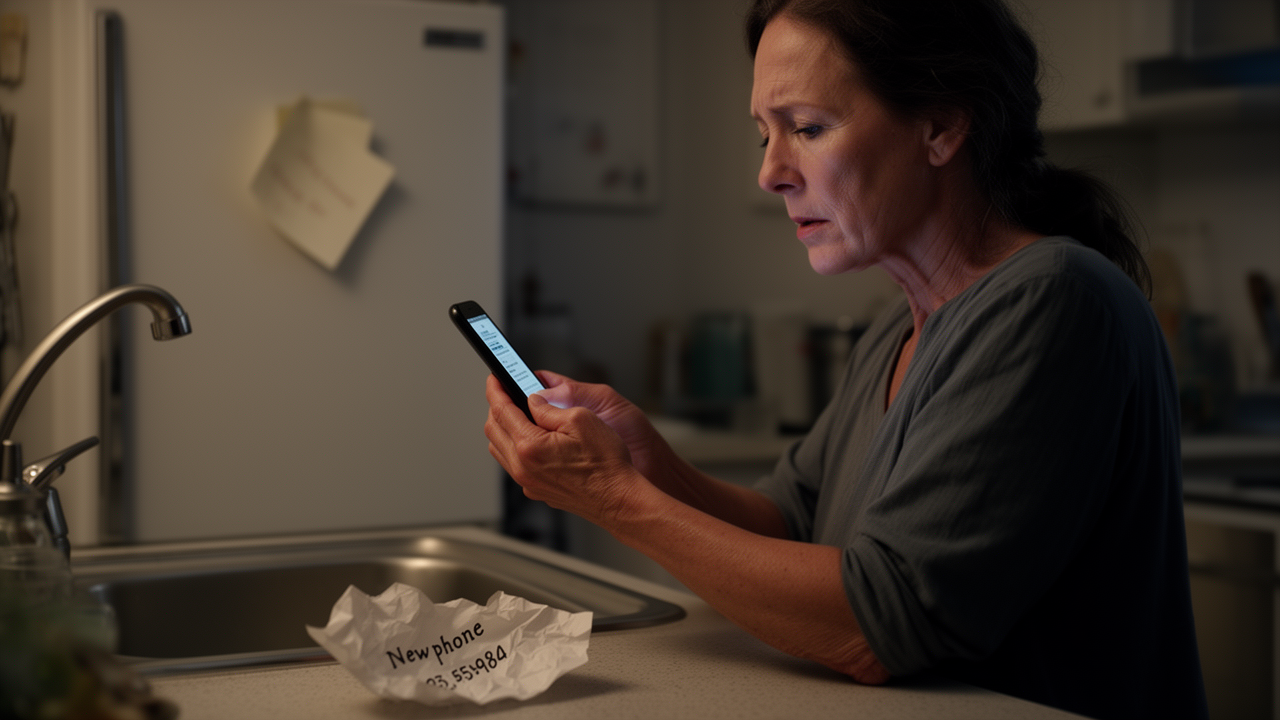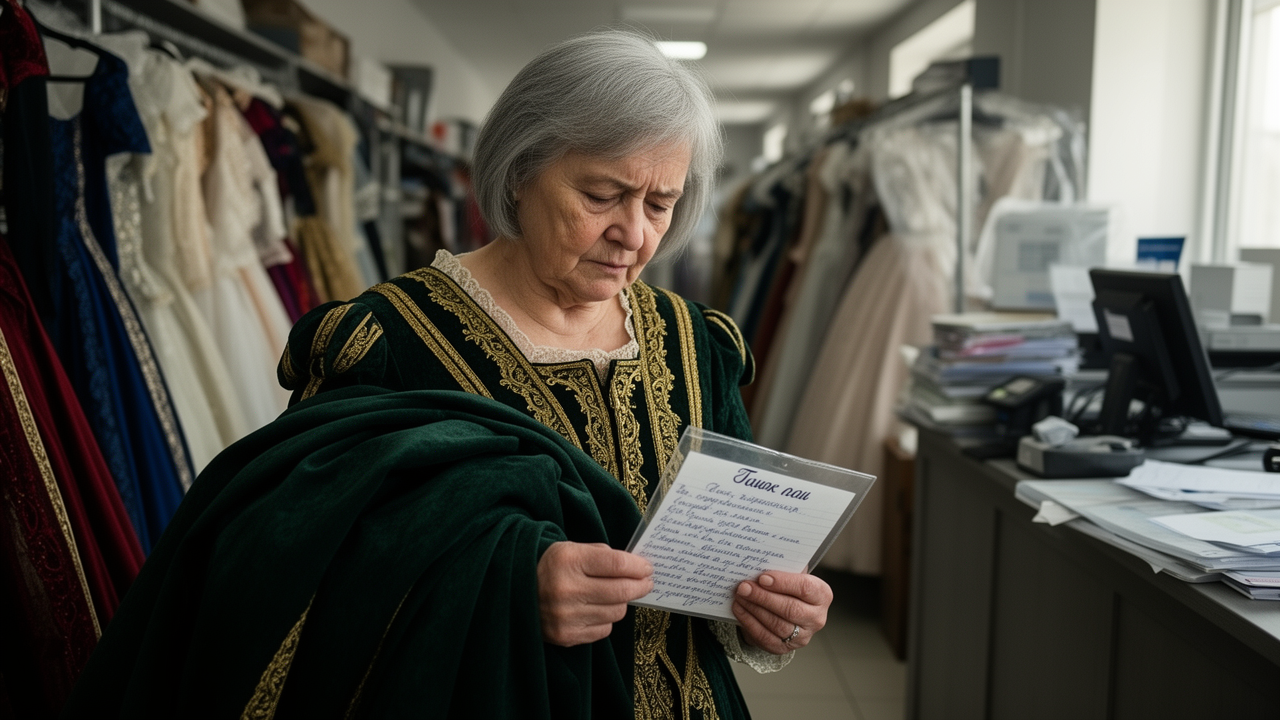Она нажала на кнопку домофона и, пока в трубке шипело, успела передумать два раза. Отступить, сказать себе, что это глупость. Или подняться и не смотреть по сторонам. Дверь щёлкнула, и она вошла в подъезд с табличкой «Автошкола» на втором этаже, как будто шла не учиться, а просить прощения заранее.
В коридоре пахло бумагой и кофе из автомата. На стене висели плакаты с дорожными знаками и расписание групп. Молодая администратор, не отрываясь от компьютера, спросила фамилию. Она назвала, и голос прозвучал чуть выше, чем хотелось.
— На практику? Инструктор сейчас подойдёт. Садитесь, — сказала девушка и кивнула на стул.
Она села. Колени, как назло, не нашли удобного положения. В сумке лежали очки в футляре, паспорт, медицинская справка и блокнот, куда она вчера аккуратно выписала: «сцепление, тормоз, газ». Слово «сцепление» казалось ей неприличным, как будто оно про что-то личное.
Дверь в класс открылась, и вышел мужчина лет сорока, в куртке, с ключами на карабине. Он посмотрел на список в телефоне, потом на неё.
— Вы… на вождение? — спросил он без улыбки, но и без той снисходительности, которой она боялась.
— Да. Я… — она уже хотела добавить «если можно», «если вы не против», но остановилась. — Да.
— Пойдёмте. Я Сергей Николаевич. Машина во дворе.
Он не сказал «бабушка», не сказал «вам бы дома сидеть». Просто пошёл, и ей пришлось подняться и идти рядом, не отставая. На лестнице она держалась за перила, как в поликлинике, хотя ступени были ровные.
Во дворе стояла учебная «Лада» с жёлтым треугольником на крыше. Сергей Николаевич открыл пассажирскую дверь, положил на панель папку и сел. Она обошла машину, остановилась у водительской двери и вдруг почувствовала, что руки стали чужими. Ключи, ремень, педали — всё это было не про неё. Её жизнь всегда держалась на других навыках: на терпении, на словах, на том, чтобы не мешать.
— Садитесь, — сказал он. — Сначала настроим сиденье и зеркала.
Она села. Сиденье оказалось низким, и она подтянула его рычагом, как показал инструктор. Спина не сразу нашла опору. Руль был тёплый от солнца, и ладони на нём выглядели старше, чем в зеркале дома. Она поправила очки.
— Ноги до педалей достают? — спросил Сергей Николаевич.
— Достают.
— Хорошо. Ремень.
Щёлкнул замок. Этот звук почему-то успокоил. Как будто она пристегнула не тело, а решение.
— Сцепление слева. Тормоз посередине. Газ справа. Сейчас просто почувствуйте, где что. Не давите, только коснитесь.
Она коснулась. Педали были тугие, как двери в старых подъездах. Сергей Николаевич объяснял спокойно, короткими фразами. Она слушала и ловила себя на том, что ждёт оценки: «молодец» или «ну что вы». Но он не оценивал, он просто вёл.
— Заводим. Ключ сюда. Повернули. Слушаем двигатель. Теперь сцепление до конца, первая передача. Медленно отпускаем сцепление и чуть-чуть газ.
Она сделала, как сказано. Машина дрогнула и заглохла.
— Ничего, — сказал он. — Это нормально. Ещё раз.
Слово «нормально» было для неё почти подарком. Она снова выжала сцепление, повернула ключ. Двигатель завёлся. Она отпустила сцепление чуть медленнее. Машина поползла.
— Вот. Держим руль двумя руками. Не зажимаем плечи.
Плечи у неё всё равно были подняты. Она попыталась опустить их, и сразу стало страшнее, будто расслабление — это потеря контроля. Машина ехала по двору, между припаркованными «Солярисами» и «Нивами». Из подъезда вышла женщина с пакетом, посмотрела на учебную машину и отвернулась. Ей показалось, что все видят её возраст через стекло.
— Впереди поворот. Плавно. Смотрите туда, куда хотите ехать, — сказал Сергей Николаевич.
Она посмотрела на край двора, на выезд, на асфальт, где были нарисованы белые линии. Машина послушалась. Это было неожиданно. Она вдруг поняла, что руль — не враг. Он просто требует ясности.
После сорока минут она вышла из машины с ватными ногами. Пальцы на руках слегка дрожали, как после стирки в холодной воде. Сергей Николаевич записал что-то в свой блокнот.
— На сегодня достаточно. Дома можете мысленно повторить: сцепление, передача, взгляд. И не переживайте, что заглохли. Все глохнут.
Она кивнула и опять чуть не сказала «извините». За то, что глохла. За то, что занимала его время. За то, что вообще пришла. Сдержалась.
Вечером она поставила блокнот на кухонный стол и открыла на странице с педалями. Муж, который давно привык к её решениям как к погоде, спросил:
— Ну как?
— Едет, — сказала она и сама удивилась, что это звучит не как жалоба.
Ночью она проснулась и вспомнила, как машина дёрнулась. В груди поднялось знакомое: «зачем я это затеяла». Она лежала, слушала, как в соседней комнате тикают часы, и думала о внуках, которых возят то родители, то такси, то она сама на автобусе с пересадками. О даче, куда она всё реже выбиралась, потому что сумки тяжёлые, а просить помощи не хочется. О поликлинике, где очереди и где всегда кто-то говорит: «вам бы с кем-то прийти». И вдруг ясно почувствовала, что учится не ради машины. Ради того, чтобы не объяснять каждый свой шаг.
На второй урок она пришла раньше. Села на тот же стул, достала очки, проверила, что справка и паспорт на месте, хотя они уже не были нужны. Просто хотелось держаться за порядок.
Сергей Николаевич вывел её на площадку за городом, где были конусы и разметка. Там стояли ещё две учебные машины. У одной курил парень в спортивной куртке, рядом смеялась девушка. Они посмотрели на неё и переглянулись.
— Сейчас будем трогаться в горку и делать разворот в ограниченном пространстве, — сказал Сергей Николаевич. — Главное — не спешить.
Она села за руль. Руки уже помнили, где рычаг сиденья. Зеркала. Ремень. Это стало маленьким ритуалом, который держал её.
На горке машина снова заглохла. Потом ещё раз. Она почувствовала, как щёки горят. Снаружи кто-то сказал громко:
— Бабушка, давай, газу!
Слова ударили не по слуху, а по спине. Как будто её толкнули. Она резко отпустила сцепление, машина дёрнулась и откатилась назад. Сергей Николаевич сразу нажал на тормоз.
— Стоп. Спокойно, — сказал он, не повышая голоса. — Ничего страшного. Сцепление держим, тормоз держим. Дышим.
Она сидела, вцепившись в руль. Сердце билось так, что казалось, его слышно снаружи. В голове вспыхнуло: «всё, хватит». Она представила, как выходит из машины, как говорит администратору: «я передумала». И как потом будет объяснять всем, что «не получилось». Ей было стыдно не за ошибку, а за то, что она заранее готова уступить чужому смеху.
— Я мешаю, — сказала она тихо.
— Вы учитесь, — ответил Сергей Николаевич. — Это площадка. Здесь для этого и глохнут.
Он посмотрел в зеркало, потом на неё.
— А тот, кто кричит, пусть сначала сам сдаст. Вы на него не ориентируйтесь. Ориентируйтесь на педали и на свой взгляд.
Слова были простые, но в них было то, чего ей часто не хватало: право быть в процессе, не оправдываясь.
Она снова завела машину. На этот раз она не пыталась доказать, что может быстро. Она слушала двигатель, как он учил. Поймала момент, когда машина хочет тронуться, и добавила газ. Машина поднялась на горку. Не идеально, но поднялась.
После занятия Сергей Николаевич предложил пройтись до остановки, потому что автобус ходил редко, а ждать на ветру было неприятно. Они шли по обочине, и она чувствовала, как ноги ещё помнят педали.
— Вы сегодня испугались из-за реплики, — сказал он.
Она хотела ответить привычным: «да нет, ерунда», но не стала.
— Да. Я… я не люблю, когда на меня смотрят, — призналась она.
— На дороге будут смотреть всегда. Но смотреть — не значит иметь право. Вы имеете право учиться.
Она кивнула. Это «имеете право» звучало странно, как будто ей выдали документ.
Дома она позвонила подруге, с которой они вместе ходили на гимнастику для спины в районном ДК. Подруга слушала и фыркала.
— Пусть смеются. Они смеются, потому что им страшно представить себя в твоём возрасте. А ты им показываешь, что можно.
— Я не хочу никому ничего показывать, — сказала она.
— Тогда покажи себе, — ответила подруга. — И не оправдывайся. Ты же не оправдываешься, когда идёшь в аптеку.
После разговора она долго сидела на кухне. В окне отражалась лампа, и в этом отражении она увидела себя не старой и не молодой, а просто живой. С руками, которые дрожат, когда страшно, и всё равно держат.
На третий урок она пришла с тонкими перчатками для вождения, купленными в хозяйственном магазине. Не кожаные, не нарядные, а такие, чтобы ладони не скользили. Она положила их в сумку и почувствовала, что делает это не для вида. Для себя.
Сергей Николаевич встретил её у входа.
— Готовы? Сегодня поедем по городу. Тихие улицы, без магистралей.
Слово «город» сжало ей живот. Она представила перекрёстки, маршрутки, которые подрезают, и водителей, которые сигналят. Но она сказала:
— Готова.
Они сели в машину. Она надела перчатки, пристегнулась, настроила зеркала. Руки в перчатках казались чуть увереннее, как будто у них появилась граница.
Сначала они ехали по дворам. Потом выехали на улицу с двумя полосами. Сергей Николаевич говорил заранее:
— Через двести метров перестроение вправо. Смотрим в зеркало, поворотник, плечо.
Она делала. Поворотник щёлкал, как метроном. Она смотрела в зеркало, потом быстро поворачивала голову, проверяя слепую зону, как он учил. Машина позади держала дистанцию. Никто не сигналил. Мир не рушился.
На перекрёстке она остановилась на красный. Нога на тормозе устала, и она чуть сместила пятку, чтобы не дрожала. В соседней машине водитель посмотрел на учебный знак и отвернулся. Ей вдруг стало всё равно, что он думает. Она была занята своим.
— Сейчас будет разворот, — сказал Сергей Николаевич. — Сложный, но мы выбрали место, где можно спокойно.
Они подъехали к широкому участку дороги у пустыря, где зимой ставили ёлку для района. Разворот требовал внимания: включить левый поворотник, убедиться, что никого нет, выехать на середину, повернуть руль до упора, не задеть бордюр.
Она почувствовала, как спина напряглась. В голове мелькнуло: «а если заглохну посреди?» Но она вспомнила горку и то, как Сергей Николаевич сказал: «ориентируйтесь на свой взгляд». Она посмотрела туда, куда нужно было попасть, и начала манёвр.
Руль тяжело пошёл, руки в перчатках не скользили. Машина описала дугу. Она услышала, как инструктор тихо сказал:
— Хорошо. Держите. Ещё чуть-чуть.
Она выровняла колёса. Машина оказалась в нужной полосе. Разворот получился. Не как у опытного водителя, но без паники и без рывков.
Она выдохнула и поняла, что всё это время держала дыхание. В груди стало легче, как после долгого подъёма по лестнице.
Через несколько минут они остановились у обочины.
— Отлично, — сказал Сергей Николаевич. — Видите, получается.
Она посмотрела на свои руки на руле. Перчатки были чуть влажные внутри. Она сняла одну, вытерла ладонь о джинсы и снова надела.
— Сергей Николаевич, — сказала она, и голос был ровнее, чем на первом уроке. — Я хочу попросить. Если я делаю ошибку, объясняйте, пожалуйста, без резкости. Мне так легче учиться.
Он кивнул, будто это было само собой.
— Конечно. И вы тоже говорите, если что-то непонятно. Это ваша работа — спрашивать. Моя — объяснять.
Ей понравилось слово «работа». Не «каприз», не «прихоть», а работа. Значит, она не просит милости.
Когда урок закончился, они вернулись к автошколе. Она вышла из машины, закрыла дверь аккуратно, как будто это была уже не чужая вещь. Сергей Николаевич протянул ей карточку с расписанием.
— Запишем вас на внутренний экзамен через две недели? — спросил он.
Она посмотрела на дату. Две недели — это не завтра, но и не когда-нибудь. Это конкретно.
— Запишите, — сказала она.
Внутри поднялось привычное желание добавить: «если получится», «если я не подведу». Она почувствовала это желание, как зуд, и не дала ему выйти.
В коридоре автошколы администратор подняла глаза.
— Ну как, понравилось?
— Работаем, — ответила она и улыбнулась чуть-чуть, без кокетства.
На улице она достала из сумки перчатки, сложила их аккуратно и убрала обратно. Потом пошла к остановке. Автобус подошёл через десять минут. Она поднялась по ступенькам, приложила карту к валидатору и села у окна.
Ехать было недалеко, но она смотрела на дорогу иначе. Не как пассажир, который ждёт, когда его довезут, а как человек, который уже знает, что делают ноги и руки, когда машина поворачивает.
Дома, снимая куртку, она услышала, как муж спросил из комнаты:
— Ну что, бросать не будешь?
Она повесила куртку на крючок, не торопясь, и ответила:
— Не буду.
И в этом «не буду» не было вызова. Было спокойное, ровное место внутри, где ей больше не нужно было извиняться за то, что она живёт дальше.
Спасибо, что читаете наши истории
Если эта история откликнулась, пожалуйста, отметьте её лайком и напишите пару слов в комментариях — нам очень важно знать, что вы чувствуете. Если захочется поддержать нашу команду авторов, это можно сделать через кнопку «Поддержать». Отдельное спасибо всем, кто уже однажды нас поддержал — вы даёте нам силы писать дальше. Поддержать ❤️.